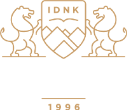МЕХАНИЗМЫ ЖИЗНИ: I. Тождество и превращение
УДК 159.9
Руднев В.П. (Москва)
English version: Rudnev, Moscow
Аннотация. В статье дается краткий обзор научной деятельности выдающегося отечественного ученого-психолога Б.М. Теплова. Описываются основные достижения его научного творчества и общественной деятельности, а также дается описание особенностей его личности – авторитетной и значимой.
Ключевые слова: Теплов Борис Михайлович, дифференциальная психология, способности, задатки, методики исследования индивидуальных различий, крупный ученый, авторитетная личность.
Посвящается Мише и Монике
Зло супрасегментно.
Т. М. Николаева
1. Что мы понимаем под механизмами жизни
Под механизмами жизни мы понимаем сочетание определенных модальностей с определенными механизмами защиты – подробно см. (Руднев 2002, гл. 1). Модальностей – типов соотношения высказывания с реальностью – мы выделяем шесть – аксиологические (хорошо, безразлично, плохо), деонтические (должно, разрешено, запрещено), эпистемические (известно, полагаемо, неизвестно), алетические (необходимо, возможно, невозможно), темпоральные (прошлое, настоящее, будущее – вариант: тогда, сейчас, потом) и пространственные (спациальные) (здесь, там, нигде) – подробно см. вторую главу нашей книги (Руднев 2000).
Механизм защиты – это тип реагирования личности, наделенной определенным характером, на проблемную или травмирующую ситуацию с тем, чтобы избежать тревоги и сохранить собственное Я. Например, депрессивный человек будет все время считать себя во всем виноватым – это и будет его защитный механизм. Он называется “интроекция” – рассмотрение чего-то внешнего как чего-то внутреннего. Напротив, человек с подозрительным, агрессивным характером (эпилептоид или параноик) будет склонен в собственных грехах винить других, и соответственно здесь будет действовать противоположный механизм защиты – проекция (восприятие внутреннего так, как будто это внешнее).
Сочетание модальности и механизма защиты мы и называем механизмом жизни. Например, повторение. Здесь реализуется механизм изоляции мышления от эмоции и деонтичекая модальность нормы – прежде всего, должно – этот механизм жизни характеризует личности с педантическим характером, а также невротиков навязчивых состояний (обсессивно-компульсивных, или ананкастов). Другой механизм жизни – различие – это сочетание механизма защиты вытеснение (плохое вытесняется, хорошее выводится в сознание) и соответственно аксиологической модальности. Различие характеризует истериков, жаждущих разнообразия удовольствий и вытесняющих плохое.
Превращение – это механизм жизни, характеризующийся алетической модальностью: невозможное становится возможным. Например лягушка превращается в царевну или чудовище – в принца («Аленький цветочек»). Здесь реализуется механизм защиты, который мы называем экстраекцией. Мы понимаем под экстраекцией сугубо психотический механизм защиты, суть которого состоит в том, что внутренние психологические содержания переживаются субъектом как внешние физические явления, якобы воспринимающиеся одним или сразу несколькими органами чувств – зрительные, слуховые (в частности, вербальные), тактильные, обонятельные галлюцинации. То есть любое превращение в узком смысле, чудесное превращение с точки зрения картины мира современной повседневной жизни является элементом безумия. Но мы будем говорить и о превращении в широком смысле, например, превращении ребенка во взрослого и тогда механизм защиты будет здесь будет другой. Это механизм отрицания. Например, бабочка, превратившаяся из гусеницы, отрицает гусеницу. Это чисто диалектический гегелевский механизм.
Тождество не является механизмом жизни, оно служит здесь вспомогательным термином, так как без предварительного осознания тождества объекта самому себе никакое превращение невозможно.
2. «Расколотое Я»
История изучения мной превращения началась следующим образом.
Однажды, лет 15 назад, когда я только начал увлекаться психологией, я стал читать книгу, которая показалась мне столь неинтересной, скучной и ненужной, что, не прочитав и десяти страниц я ее куда-то забросил, и при переезде на другую квартиру она вообще пропала. Спустя несколько лет, когда я уже всерьез стал заниматься теоретическим психоанализом и философией психиатрии, «психосемиотикой», как я сейчас обозначаю область своих научных интересов, я вновь купил эту книгу, поскольку это была очень знаменитая книга про шизофрению. И вот я прочел ее от корки до корки, и с тех пор это одна из самых любимых моих книг. Это книга Рональда Лэйнга «Расколотое Я: Антипсихиатрия».
Это была совершенно другая книга, чем та, которую я забросил несколько лет назад. Но на самом деле книга, конечно, осталась той же самой – превращения произошли во мне самом. Но ведь я тоже сохранил свое генетическое тождество, остался прежним Я (во всяком случае, мне так казалось).
В проблеме тождества и превращения важна не формальная логика, а диалектика. Скажем, в самой книге Лэйнга есть такой пример. Он рассказывает, как знаменитый психиатр Эмиль Крепелин демонстрировал перед аудиторией студентов безумную девушку.
Итак, сначала идет отчет Крепелина о сумасшедшей:
Господа, случай, который я предлагаю вам, весьма любопытный. Первой вы увидите служанку двадцати четырех лет, облик которой выдает сильное истощение. Несмотря ни на что, пациентка постоянно находится в движении, делая по несколько шагов то вперед, то назад; она заплетает косы, распущенные за минуту до этого. При попытке остановить ее, мы сталкиваемся с неожиданно сильным сопротивлением: если я встаю перед ней, выставив руки, чтобы остановить ее, и если она не может меня обойти, она внезапно нагибается и проскакивает у меня под рукой, чтобы продолжить свой путь. Если ее крепко держать, то обычно грубые, невыразительные черты ее лица искажаются, и она начинает плакать до тех пор, пока ее не отпускают. Мы также заметили, что она держит кусок хлеба в левой руке так, что его совершенно невозможно у нее отнять. <…> Если вы колете ее иголкой в лоб, она не моргает и не отворачивается и оставляет иголку торчать изо лба, что не мешает ей неустанно ходить взад-вперед.
Теперь комментарий Лэйнга:
Вот мужчина и девушка. Если мы смотрим на ситуацию с точки зрения Крепелина, все – на месте. Он – здоров, она – больна; он – рационален, она – иррациональна. Из этого следует взгляд на действия пациентки вне контекста ситуации, какой она ее переживает. Но если мы возьмем действия Крепелина (выделенные в цитате) – он пытается ее остановить, стоит перед ней, выставив вперед руки, пытается вырвать у нее из руки кусок хлеба, втыкает ей в лоб иголку и т. п. – вне контекста ситуации, переживаемой и определяемой им, то насколько необычными они являются!» (Лэйнг 1995: 291-292)
Кто же из них сумасшедший? Для девушки, как безумный, ведет себя, несомненно, Крепелин!
Крепелин же просто в определенном смысле превратил ее в сумасшедшую.
Еще один психиатрический пример, рассказанный мне моим другом и коллегой, психиатром из Иерусалима Иосифом Зислиным. Однажды муж, войдя в спальню, увидел на супружеской постели не свою жену, а кабана. Он взял ружье и застрелил кабана. Когда он опомнился, он понял, что у него просто была галлюцинация, что в его помутненном разуме жена превратилась в кабана. Этот человек вызвал полицию и сам настаивал на том, чтобы его осудили. Но ведь в момент убийства он убивал не жену – он убивал кабана. Это история стала причиной сложного юридического казуса – считать ли этого человека вменяемым или безумным с соответствующими уголовными последствиями. Но дело не в этом. Важно то, что, как и в случае с книгой Лэйнга, превращение произошло не с объектом, а с субъектом. «Объективно» говоря – если так вообще можно сказать философском смысле – объект в обоих случаях сохранял свое тождество. «На самом деле» ни одно слово в книге Лэйнга не изменилось, и жена по-прежнему была женой и не превращалась в кабана.
Здесь вспоминается повесть Сэлинджера «Выше стропила, плотники», где рассказывается дзенская история о том, как китайский мудрец в гнедом жеребце увидел пегую кобылу. Так вот, не увидел ли «на самом деле» наш безумец-муж в свой жене кабана, то есть в момент помутнения рассудка (а, может быть, это было не помутнение, а прояснение?), он внезапно увидел «кабанью» сущность свой жены: скажем, ее уродство, агрессивность или животное начало, внушающее страх. Возможно, перед этим между ними произошла крупная ссора, сцена ревности или что-то другое.
Приведем совсем другой пример – из логики. Существует самый фундаментальный закон формальной логики – закон тождества (или рефлексивности): а=а. Витгенштейн писал, что этот закон либо тривиален, либо просто неверен. Например, с его точки зрения предложение «Зеленое есть зеленое» не является тавтологией. Как всегда в «Логико-философском трактате», Витгенштейн не поясняет своей мысли. Мы можем ее интерпретировать лингвистически. Первое вхождение слова «зеленое» является подлежащим, а второе – сказуемым. То есть как минимум это две противоположных части речи. Но ведь если мы вспомним о нашем тезисе, в соответствии с которым превращение (пусть всего лишь слова «зеленый» из подлежащего в сказуемое) происходит не в объекте, а в субъекте или нескольких субъектах, то зеленое может превратиться и в синее, и в красное. Первый пример – из рассказа Олеши, где один из героев в силу особенностей своего дальтонизма видел зеленые груши как синие. Второй пример – это пример с обычным дальтоником, который не различает зеленого и красного цветов.
Можно сказать, что к тождеству апеллирует обычная пропозициональная логика, а с превращением имеет дело модальная логика пропозициональных установок, или контекстов мнения.
Эта груша – синяя – противоречие.
Он думает (ошибочно), что эта груша синяя.
В последнем случае согласно, воззрениям Фреге, значение истинности снимается с основной части высказывания и переносится на пропозициональную установку.
Можно возразить, что все эти примеры имеют маргинальное значение, что превращений в строгом смысле как внезапного изменения объекта на нечто противоположное тому, чем он был до этого, в нашей жизни не бывает.
Мы может сказать, что это не так, но при одном условии, которое мы уже высказали: что превращение диалектически слито с тождеством. Представим себе такой пример: сын и отец виделись последний раз тридцать лет назад. Через тридцать лет отец и сын не узнали друг друга. Сын превратился в цветущего мужчину, а отец – в дряхлого старика. Тем не менее, в смысле генетического тождества они остались теми же людьми. Превращение в этом смысле одна из самых важных категорий в человеческой жизни. При оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом появляется зародыш, который превращается в ребенка, а тот превращается в подростка, который превращается во взрослого, взрослый – в старика, а старик умирает и превращается в труп. Можно сказать, что основное превращение, в каком-то смысле даже нарушающее генетическое тождество, это превращение жизни в смерть. Превращаясь в труп, человек лишатся всех своих модальностей, всех механизмов жизни и субличностей: он больше не отец, не сын, не начальник, не автомобилист, не инженер и так далее
Мужчина пахнущий могилою,
уж не барон, не генерал,
ни князь, ни граф, ни комиссар,
ни Красной армии боец,
(Александр Введенский. «Кругом возможно Бог»)
Гусеница превращается в бабочку, а гадкий утенок в прекрасного лебедя – и в этом нет ничего удивительного. Мы живем в мире превращений.
Можно привести еще один пример одновременно из литературы и психопатологии. Литературная часть этого примера общеизвестна – это превращение доктора Джекила в мистера Хайда и обратно. Психиатрическое соответствие этому – так называемые диссоциативные, или множественные, личности. Это такое психическое заболевание, при котором в одной личности живут две или несколько, причем, когда начинает актуализироваться одна часть личности, другая ничего об этом не знает и не отвечает за свою другую часть. Раньше психиатры этого феномена не понимали и считали его проявлением истерии, то есть, говоря попросту, считали, что одна личность симулирует превращение в другие. Теперь считается, что ряд классических примеров истерии, проанализированных Фрейдом, являются на самом деле примерами множественной диссоциативной личности. (О понятии диссоциативной личности см., например, соответствующую главу в книге Ненси МакВильямс "Психоаналитическая диагностика" М., 1998.)
Можно сказать, что в современном городе очень большая часть населения страдает в той или иной мере тяжести биполярным расстройством личности, когда в жизни человека чередуются депрессия и гипомания (повышенное радостное настроение, когда все вокруг кажется прекрасным). Депрессия превращает мир в бессмысленный. Когда же у человека начинается душевный подъем, тогда то, что ему в депрессии казалось бессмысленным, тягостным и ненужным, как по волшебству, приобретает интерес и ценность. Хороший мир превращается в плохой при депрессии и плохой – в хороший при гипомании. Это можно назвать аксиологическим превращением. При этом человек и сам изменятся до неузнаваемости. Особенно поразительно превращение депрессивного человека в гипоманиакального, которое часто совершается совершенно внезапно, в одночасье, без всяких внешних причин. Мрачный, подавленный, несчастный человек с заторможенный речью и мимикой и как будто начисто лишенный чувства юмора, за одну ночь превращается в радостную, подвижную, искрометно остроумную личность. Он становится совершенно другим человеком. Он превращается в свою противоположность.
В этом месте мне могут возразить, что я употребляю слово «превращение» метафорически. В строгом смысле слова, скажет этот предполагаемый оппонент, превращением можно назвать случай, когда чудовище превращается в прекрасного принца, лягушка – в царевну, человек – в волка (оборотничество) и так далее. Времена таких превращений прошли – мы не верим в них. В этом возражении, разумеется, есть доля известного здравого смысла, но в целом оно наивно и ненаучно. Оно исходит из того, что мифы, обряды, сказки, легенды, фольклор не имеют никакого отношения к нашей повседневной городской жизни, что все это дряхлое прошлое.
Но что мы знаем о жизни современного простого народа? Практически ничего. О ней знают только фольклористы и этнографы-полевики. Уверен, что простой деревенский человек, увидев метаморфозу превращения из депрессивного в гипоманиака, скажет, что это на самом деле другой человек.
Но почему мы думаем, что мнение наивного сознания маргинально? Ведь простых людей на Земле гораздо больше, чем образованных и утонченных.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернулся к проблемам психиатрии. Дело в том, что каждое психическое расстройство реализует свою парадигму превращения.
3. Метаморфозы безумия
При фобии, например, в случае маленького Ганса белые лошади у него отождествлялись с отцом, а большой и маленький (измятый) жираф соответственно – с отцом и матерью. Можно, таким образом, сказать, что в его сознании (бессознательном?) отец превратился в лошадь с усами (у лошади, которой он испугался, было черное пятно под носом) и в жирафа с длинной шеей (по Фрейду, эквивалентом пениса), а мать – в измятого жирафа (измятость Фрейд интерпретировал как женские половые органы) (Фрейд 2007 <1907>).
При конверсионной истерии полученная субъектом травма трансформируется в соответствующий симптом. Например, человек когда-то получил пощечину или его просто оскорбили (как бы он получил символическую пощечин и у него возникло воспаление тройничного нерва, носящее истерический характер. Здесь механизм превращения наиболее простой и очевидный, оттого что с семиотической точки зрения истерия является наиболее выраженной: вот травма – вот симптом. К тому же в истерии реализуется тот механизм жизни, который мы назвали различием, то есть истерический больной прибегает к различны стратегиям поведения. Истерик может реализовать мутизм, то есть перестать говорить, у него могут возникнуть стигмы, комок в горле, астазия-абазия (то есть он может перестать стоять и ходить) и многое другое вплоть до истерической беременности, причем все эти истерические симптомы реализуются либо последовательно, один за другим, либо вперемежку (Брейер-Фрейд 2005<1896>, Фрейд 2007a <1905>).
В противоположность истерии при неврозе навязчивых состояний реализуется механизм повторения. Такой человек все время может что-то считать, в голове у него крутятся обрывки навязчивых мелодий или стихотворных строк, он совершает неукоснительно повторяющиеся изо дня в день ритуалы и. д. Какая же парадигма превращения господствует при неврозе навязчивости? Ведь повторение вроде бы исключает всякое становление, к тому же внезапное. Личность не только педантична, она еще и мистична. Такие невротики верят в приметы и, кроме того, обладают тем, что Фрейд назвал «всемогуществом мысли». Подобно тому, как в примитивной магии человек прокалывает булавку врага, и тот умирает (превращается в покойника, в безжизненное тело), почти точно так же невротик навязчивости считает себя способным влиять на ход событий. Например, если какой-то близкий этому невротику человек умирает, он может считать, что именно он виноват в этом, потому что не осуществил всего один раз какой-то ритуал, скажем, не помолился на ночь за этого родственника. Фрейд в статье о «человеке-крысе» рассказывает, что его пациент считал, что, если он женится на своей возлюбленной, его отец умрет (Фрейд 2007b <1909>).
А какие превращения происходят при депрессии? Они происходят на границе между сном и пробуждением. Сон – единственное утешение депрессивного человека. Во сне он может быть совершенно счастливым, он видит своих любимых людей, например давно умершего отца, совершает научные открытия и т. д. (То, что во сне одно может превращаться в другое, настолько тривиальный факт, что мы об этом говорить не будем.) Поэтому момент утреннего пробуждения для него ужасен. Он вдруг осознает, что предстоит мучительный страшный день, полный тоски, подавленности, отчаянья, тревоги, чувства вины. Но бывает и так, что утром депрессивный человек себя чувствует ужасно, а вечером гораздо лучше, и к моменту отхождения ко сну он может ощущать себя совершенно счастливым – ведь впереди ночь со сладкими сновидениями, а об утре он старается не думать. И часто, когда он ложится спать, ему кажется, что он выздоравливает. А утром все начинается сначала.
О том, какое почти чудесное превращение происходит, при переходе из депрессии в гипоманию, мы уже писали выше. В самой гипомании превращения происходят на каждом шагу. Вспомним, как Остап Бендер разворачивал перед васюкинцами невероятный проект шахматной столицы, как он превратил Кису Воробьянинова в глазах «заговорщиков» в отца русской демократии, как из практически нищего превратился в миллионера и так далее. Сюда же относится знаменитая речь пьяного Хлестакова перед насмерть напуганными чиновниками, когда он начинает воображать себя генералом, которому все льстят и т. д. (Хлестаков – истерик, но истерики, особенно ювенильные, могут быть веселы и беззаботны, и часто их не отличить от гипоманиаков.)
При паранойе, особенно при бреде ревности все объекты в принципе превращаются в один объект – в объект ревности, Вещь Ревности. Что это значит? Патологический ревнивец, как известно, во всех мужчинах видит потенциальных или реальных любовников своей жены. Если он уже находится на грани шизофрении, он может даже считать, например, что жена изменяет ему с ротой солдат. Но удивительно, что не только одушевленные объекты, но в пределе все объекты превращаются в один универсальный объект ревности. Если ревнивый параноик видит на стене портрет Пушкина, он думает, что жена изменяет ему с Пушкиным, ну или хотя бы, положим, предпочитает ему Пушкина – скажем, все время читает его стихи. Если он видит кошку, ему приходит в голову мысль, что жена его похотлива, как кошка; если он видит стол, то ему приходит в голову, что жена ему изменяет с любовником на столе и так далее.
При паранойяльном бреде отношения больному кажется, что все люди за ним смотрят, наблюдают и, по-видимому, с недобрыми намерениями – бред отношения может перерасти в бред преследования. Но может быть и противоположный вариант: параноику может казаться, что люди обращают на него внимание потому, что он такая значительная личность. Бред отношения может сразу, минуя стадию преследования, трансформироваться в бред величия, мегаломанию, когда человек превращается в Наполеона, Иисуса Христа, античного бога Диониса (Ницше), испанского короля (гоголевский Поприщин, герой «Записок сумасшедшего), и так далее. Подробнее мы разберем бред величия при рассмотрении превращений при шизофрении.
Мы уже вкратце писали выше о множественных, или диссоциативных, личностях, в которых превращения происходит в прямом смысле. То есть в одном человеке живут два или более и один время от времени превращается в другого. Уже Пьер Жане считал многих больных, диагностированных в качестве истериков, множественными личностями. Сейчас пересматриваются многие случая Фрейда и его учителя Бройера. Например, одна из самых знаменитых истеричек Анна О. (Берта Паппенгейм), одна из героинь «Исследований истерии» Брейера и Фрейда, книги, вышедшей в 1896 году и заложившей основы психоанализа, по мнению современных психоаналитиков, была скорее диссоциативной множественной личностью. Ненси МакВильмс, автор известного руководства «Психоаналитическая диагностика» пишет:
Пребывая одном из этих состояний, она распознавала свое окружение. Была меланхоличная и тревожна, но относительно нормальна. В другом состоянии – галлюцинировала и была, так сказать, «непристойной»: оскорбляла людей и бросала в них подушками… Если что-то попадало в комнату или кто-нибудь входили или выходил из нее во время другого состояния), она жаловалась, что «теряет» время (здесь явно неадекватный перевод. Очевидно, что имеется в виду, что она в своем "другом стоянии" не "теряла время", а скорее как бы выпадала из него, то есть, когда она приходила в первое "хорошее" состояние он не помнила тот отрезок времени, когда она находилась в "другом состоянии", нехорошем и злом) и указывала на пробелы в потоке ее сознательных мыслей. В те моменты, когда ее сознание было совершенно чисто, женщина страдала… от того, что имела два «Я» – одно настоящее, а другое злое, заставлявшее ее себя вести плохо (МакВильямс 1998: 418).
По мнению исследователей множественной личности эти расстройства чаще всего происходит от сильного стресса в детстве, чаще всего от изнасилования. То есть в этом случае «плохая» часть личности как бы представляет собой спроецированного насильника, а хорошая – жертву. Разумеется, в каждом человеке заложена двойственность и множественность. Каждому человеку можно сказать: «Но вчера ты говорил совершенно противоположное». В этом плане здесь необходимо поговорить об учении Георгия Ивановича Гурджиева о множественном Я.
Одним из фундаментальных оснований системы Гуржиева, является положение, в соответствии с которым, всякому обычному человеку лишь кажется, что он является целостной личностью, на самом же деле он состоит из многочисленных маленьких «я», и одно из направлений работы в этой системе сосредоточено на том, чтобы создать у человека единое сознание. Для этого человеку, прежде всего, необходимо осознать, что он не един, а множественен, прежде всего, разделить свою ложную личность (термин, который, кстати, употребляется не только в системе Гурджиева, но и у Рональда Лэйнга на Наблюдаемое и Наблюдающее Я. Причем Наблюдающее Я должно постепенно стать хозяином положения, поработить и уничтожить те «плохие маленькие я», которыми наполнена ложная личность человека. Так один из наиболее авторитеных последователей Гурджиева Морис Николл говорит о «подозрительных я» (явный аналог паранойяльной личности в европейской психиатрической традиции), «я самооправдания», Воображаемом Я, главный враге Наблюдающего Я, «я злословия» (напрашивается аналогия с понятием «толков» у Хайдеггера и «пустой речи» у Лакана), «беспокоящемся я» (то есть, в сущности, тревожная часть личности), «усложняющем и все запутывающем я» (близко к психастеническому характеру), «я, которые любят болеть» (ср. представление о рентности и вторичной выгоде в психоанализе).
Но есть и полезные, Рабочие Я, которые нужно всячески поощрять, в то время как с другими, вышеперечисленными, надо безжалостно расправляться, поскольку они чрезвычайно опасны, вредны и совершенно бесполезны для человека (Николл 2004)
Сравним это с высказыванием современного психолога В. Н. Цапкина, взятом из его статьи с характерным названием «Личность как группа и группа как личность»:
Многие философы, психологи и психотерапевты сегодня решительно заключают, что представление о монолитной, «монологической» личности является рудиментом эпохи рационализма, продуктом картезианско-ньютоновской картины мира. Пожалуй, ни в какой другой области полифоническая модель личности не показывает с такой силой свою эвристическую мощь, как в практике психотерапии и психологической помощи (Цапкин 1994: 13).
Шизотипическое расстройство личности, или как его раньше называли, вялотекущая (малопрогредиентная) шизофрения, играет особую роль в культуре ХХ века. Это не просто болезнь, это способ видеть мир (в гораздо большей степени, чем другие заболевания). Это современный способ видеть мир. Что же такое шизотипическое расстройство, и какие превращения там происходят? Это такое положение вещей, при котором личность состоит как бы из осколков различных характеров (частей, или радикалов). То есть человек может быть одновременно замкнуто-углубленным шизоидом и добродушным сангвиником или одновременно педантичным ананкастом и капризным истериком. В общем-то, в какой-то степени каждый человек имеет в себе черты всех характеров, но на уровне наслоений, а не ядра, в шизотипическом, или полифоническом, как называет его профессор М.Е. Бурно, характере нет ни ядер, ни наслоений, а есть только осколки. Говоря в двух словах, шизотипист – это постмодернист по своему мировосприятию, то есть он, в первую очередь, равнодушен к проблеме истины (для него существует много истин, которые превращаются одна в другую).
В соответствии с этим важнейшим риторическим приемом шизотипического искусства ХХ века является такое построение дискурса, при котором он делится на несколько частей, каждая из которых излагает свою версию тех событий, которые произошли в текстовой реальности. Наиболее известные тексты этой традиции это рассказ “В чаще” Акутагавы (и фильм Куросавы “Росёмон”, сделанный по нему) и роман Фолкнера “Шум и ярость”. В современной литературе самый яркий текст такого рода, конечно, “Хазарский словарь” Павича. Во всех этих случаях текст делится на несколько частей и в каждой излагается версия событий, противоречащая соседней. На чьей стороне правда, так и остается неизвестным. В шизотипическом расколотом мозаическом сознании происходит примерно то же самое. Есть правда шизоида, есть правда ананкаста, есть правда истерика, но нет одной-единственной истины, на которую, можно было бы опереться. В этом и большое достоинство шизотипической личности, которой не грозит стать фанатиком или фундаменталистом, и в этом ее большое несчастье, так как она постоянно находится в вечных сомнениях самого глобального порядка. Обычно ее не устраивают даже такие элегантные своей толерантностью философские идеи, как, например, философское расширение принципа дополнительности Бора или еще что-нибудь в таком роде.
Итак, один осколок, один характер внутри шизотипической личности превращается в другой, депрессивный мир у шизотиписта легко превращается в гипоманиакальный, а вязкий педантический мир обсессивного может с легкостью превратиться в изящный в полный внутренней свободы мир истерической личности. То есть, говоря языком философии ХХ века, шизотипическая личность живет на пересечении множества возможных миров.
Значение шизотипии (считать ли ее малой шизофренией или отдельным заболеванием, к чему склонны психиатры ныне) в культуре ХХ века огромно. Достаточно перечислить культурных героев ХХ века, которые принадлежат этой ментальной традиции. Джеймс Джойс, Франц Кафка, Михаил Булгаков, Сальвадор Дали, Жак Лакан, Жиль Делез, Карл Юнг, Рене Магритт, Вильгельм Райх, Мелани Кляйн, Фриц Перлз Атонен Арто – шизотиписты и «здоровые шизофреники» (термин М. Е. Бурно) даются мной вперемежку, так не всегда просто отличить одного от другого. А. В. Шувалов, например, считает, что у Кафки было шизотипическое расстройство личности (Шувалов 2005), я же склонен полагать, что это была шизофрения simplex (простая шизофрения – без бреда и галлюцинаций, с одними только так называемыми негативными признаками: страх, опустошенность, тягостность бытия, соматоформные расстройства – см. дневники Кафки (Кафка 1998).
Шизофрения, Большая Шизофрения также является не просто болезнью ХХ века, а одним из его культурных символов. Тем интересней, что шизофрения является болезнью превращений par exelense. Превращения могут происходить на грани бреда и адекватного состояния, особенно при такой разновидности, как парафрения, когда больной поочередно живет в двух мирах, то в бредовом, то в нормальном. Когда он выходит из бреда, он превращается в обычного человека.
Таким был, например, Даниил Андреев, который, сидя в тюрьме, днем проявлял себя как добрый, отзывчивый и совершенно нормальный человек, а ночью его преследовали видения, он общался с иными мирами и писал свою знаменитую впоследствии «Розу мира».
Особенностью Даниила Андреева был «транссемиотический» дар духовидца. Еще в отрочестве, когда ему было 15 лет, он увидел «Небесный Кремль». Но особенно в тюрьме, в состоянии сенсорной депривации, когда галлюцинации могут начаться и у здоровых людей, то есть таких людей, психоз которых носит реактивный характер (ср., например, трактат Боэция «Утешение Философией»: философ сидел в тюрьме в ожидании смертного приговора, и ему привиделась дама Философия, которая утешила его перед смертью). Потом эти видения участились и стали носить систематический характер. Из совокупности этих видений и слышаний, парадоксальным образом сочлененных с глубокими и в высшей степени связными и оригинальными суждениями и целыми фрагментами, посвященными русской и мировой истории и литературе, и состоит это уникальное произведение. Здесь действует, конечно, механизм «двойной бухгалтерии», как это образно определил Эуген Блейлер, или двойной ориентировки, которая в «Розе Мира» видится совершенно отчетливо: в книге глубокие и в высшей степени здравые рассуждения о Пушкине, Лермонтове или Достоевском, правда, с вкраплениями метаисторических, или, «трансфизических» терминов соседствуют с совершенно фантастическими описаниями метаисторических коллизий, которые носят явные черты шизофренического мировосприятия.
Я приведу еще устный пример профессора М.Е. Бурно
Когда он работал в сельской амбулатории, туда приводили иногда простых мужиков с острой параноидной шизофренией – соответственно с бредом – бред этот был очень интересен, богат и красочен. Но когда этих мужиков закалывали нейролептиками, они превращались в обыкновенных туповатых крестьян.
Другой тип раскола при шизофрении это то, что в обыденном языке называется раздвоением личности. Так, в романе Саши Соколова главный герой мальчик Нимфея частично, как он сам говорит, превратился в лилию Нимфея Альба, после чего он раздвоился как бы на двух мальчиков, которые на протяжении романа все время впадают друг с другом в пререкания, и приобрел дар всеслышанья:
Я слышал, как на газонах росла нестриженная трава, как во дворах скрипели детские коляски <…> Я слышал, как где-то далеко, может быть, в другом конце города, слепой человек в черных очках <…> просил идущих мимо перевести его через улицу <…> Я слышал тишину пустых квартир, чьи владельцы ушил на работу <…> Я слышал поцелуи и шепот, и душное дыхание незнакомых мне мужчин и женщин - то есть с ним происходит нечто вроде того, что произошло с пушкинским пророком – обряд инициации, ритуал посвящения в избранные, в поэты-пророки:
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Третий случай, это когда человеку кажется, что он превратился в какое-то, как правило, неприятное существо. Здесь нельзя не вспомнить рассказ «Превращение» Кафки, в котором герой превращается в огромное насекомое. И затем следуют типичные проявления негативных признаков шизофрении – отчуждение от людей, прежде всего, родственников, все большая опустошенность и смерть.
Вообще чувство тела, превращений, происходящие в теле, чрезвычайно важны при шизофрении – об этом писал автор книги «Феноменология тела», он называл тело шизофреника «дырчатым» (Подорога 1995:27). Шизофреник диссоциирован со своим телом (Лоуэн 1996). Это очень хорошо видно на примере героев Андрея Платонова – подробно см. главу о Платонове нашей книги (Руднев 2007).
Вспомним также случай Элен Вест, исследованный Людвигом Бинсвангером. Там шизофрения заключалась, прежде всего, в том, что Элен не хотела быть толстой и, в то же, время очень любила есть (шизофренический схизис) (Бинсвангер 2001).
Приводим классическое описание бреда преследования из знаменитого руководства Э. Блейлера:
больные чувствуют, что и предметы, и люди, окружающие их, стали какие-то неприветливые («стены в моем собственном доме хотели меня сожрать»). Затем они вдруг делают открытие, что определенные люди, делают им или другим людям знаки, касающиеся больных. Кто-то покашлял, чтобы дать знать, что идет онанист, убийца девушек; статьи в газетах более чем ясно указывают на больного; в конторе с ним плохо обращаются, его хотят прогнать, ему дают самую трудную работу, за его спиной над ним издеваются. В конце концов, всплывают целые организации, созданные ad hoc, «черные евреи», франкмасоны, иезуиты, социал-демократы; они повсюду ходят за больным, делают ему жизнь невозможной, мучают его голосами, влияют на его организм, терзают галлюцинациями, отнятием мыслей, наплывом мыслей [Блейлер 1993: 77].
(Здесь нужды, так же как и в случае сновидения, комментировать превращения в бреде преследования; также со времен раннего психоанализа стало общим местом уподобление сновидения психозу.)
Часто в преследователей превращаются родители. В «Медном всаднике» Пушкина показано оживание статуи Петра (отца новой России) и преследование им Евгения. Петр – это то, что Лакан называл Именем Отца. Это символическая фигура властного СуперЭго, часто Бога (отсюда «Да светится Имя Твое!» из молитвы «Отче наш»). Имя Отца становится одним из самых мощных преследователей при шизофрении. Часто оно может совпадать с реальным отцом как это было у Кафки. Отец в припадке ярости мог сказать маленькому Францу «Я разорву тебя на части», и мальчик верил, что отец действительно на это способен.
(Разрывание на части, фрагментация тела играет важную роль в архаических жертвоприношениях. Отголосок его встречаем в Евангелиях, когда на Иисусе разрывают одежду перед казнью.)
Роль Имени Отца как Бога чрезвычайно важна в одном из самых знаменитых «случаев», описанных Фрейдом, в так называемом случае Шрёбера. Даниэль Шрёбер, председатель дрезденского суда, очень почтенный человек заболел психическим расстройством, напоминающим шизофрению, – такого слова тогда еще – конец XIX века – не было (Фрейд определяет его как dementia paranoids). После того как Шрёбер выздоровел, он написал и опубликовал один из самых бесценных источников по психопатологии – «Мемуары нервнобольного». Конечно, он был не «нервнобольной», а тяжелый психотик с развитым бредом, в котором активную роль играет Бог и ангелы – с ними у Шрёбера устанавливаются тесные и поначалу враждебные отношения (о Шребере подробно см. Фрейд 2007с, Лакан, 1997, Канетти 1997). Для нас важно, что однажды Шрёберу пришла идея, что для того, чтобы спасти человечество он должен превратиться в женщину, совокупиться с Богом, а нарожать новых людей.
В качестве примера психотических отождествлений-превращений приведем также обезумевшего Ницше, который подписывал открытки именами Дионис, и Распятый (отождествлял-таки себя с Христом).
Почему превращения играют столь большую роль при шизофрении? Сознание здесь согласно психоаналитическим воззрениям регрессирует к архаическому первобытному, мифологическому по своей сути сознанию, в котором нет тождества субъекта самому себе, потому что нет еще самого понятия субъекта, «господствует всеобщее оборотничество», то есть тотальное превращение одного в другое (Лосев 1980).
В индийской мифологической философии санкхья жизнь представляется как «вращение трех гун, своеобразных механизмов жизни – энергичного агрессивного, «острого» начала раджас; инертного, пассивного, «тупого» начала тамас и уравновешивающего их начала саттва. «Гуны вращаются в гунах», все превращается во все. Сходную картину тотального превращаения дает «И-Цзин» – китайская классическая книги перемен.
Проиллюстрируем сказанное о шизофренических превращениях на примере художественного шизофренического дискурса, одного из самых знаменитых произведений конца ХХ века, романа «Хазарский словарь» Милорада Павича – см. также анализ этого дискурса в соответствующей главе книги (Руднев 2007).
4. «Хазарский словарь»
Основой сюжета «Хазарского словаря» является рассказ о так называемой «хазарской полемике». Хазарский каган решил принять новую веру и вызвал на дискуссию трех мудрецов: православного, исламского и иудейского. В «Хазарском словаре» три части – православная, исламская и иудейская. В каждой из частей утверждается и подробно обосновывается тот факт, что каган принял соответственно православие, ислам и иудаизм. Таков постмодернистский шизотипический схизис. Однако это не просто повторение гениальных шизотипических новелл Борхеса вроде «Трех версий предательства Иуды», хотя, вероятно, именно Борхес больше всего повлиял на создателя «Хазарского словаря». Здесь огромную роль играет построенный на балканской мифологии и иудейской талмудической традиции шизоидный и шизофренический колорит, который и составляет непревзойденную прелесть этого текста. Это знаменитые невозможные шизофренические высказывания, описывающие невозможные с точки зрения здравого смысла действия и положения вещей; шизофренические представления о времени и смерти, о сновидении и языке – примеры см. в указанной главе книги Руднев 2007. Мы же рассмотрим примеры, связанные с шизофреническими превращениями, которыми наполнен роман Павича.
…когда каган принял это решение, у него умерли на голове волосы (Павич 2006: 13)
…каждое утро она превращала свое лицо в новое, ранее невиданное (27)
Тогда каган приказал привести всех собранных и велел еврею сделать из них еще одного кагана. Пока расползались оставшиеся в живых калеки, части тела которых были использованы для создания второго кагана, еврей написал на лбу нового существа какие-то слова, и молодой наследник поднялся с постели кагана (59).
Здесь, несомненно, приводится версия создания Голема глиняного человека, оживленного раввином, положившим в руку Голему свиток Торы. Также вспоминается «Франкенштейн» и – неожиданно – «Восковая персона» Тынянова – там в восковую фигуру Петра Первого Растрелли встроил механизм, который заставлял фигуру подскакивать, когда мимо проходили посетители.
Он на глазах превращался все больше и больше из него в нее (84).
Это мать и ее сын профессор Йозеф Сук. Когда мать общается с ним, то она его не узнает и рассказывает ему о его же открытиях как будто это какой-то другой человек.
Буквы, которые выписывали ловцы снов, становились все больше и больше, им с трудом удавалось повиснуть на их концах, вычерчивая их. В книги такие знаки уже не помещались. И пришлось писать их на склонах холмов (120)
Здесь неожиданные переклички с «Алисой в стране чудес», где тоже все время ее тело то уменьшается, то увеличивается. Безусловно, эта сказка представляет собой психотический дискурс.
Если соединить вместе все сны человечества, получится один огромный человек, существо размером с континент.
Они считали, что каждому человеку принадлежит по одной букве азбуки и что каждая из букв представляет собой частицу тела Адама Кадмона (195).
Проблема превращения языка в тело или – более широко – соотнесенность языка с телом – это одна из главных проблем философии ХХ века. Оппозиция язык – тело сменила устаревшее уже в конце XIX века противопоставление материи и сознания, прежде всего, в работах Эрнста Маха с его учением о принципиальной координации. В логико-позитивистских кружках Кембриджа по этому поводу шутили: – What is mind? – No matter! – What is matter? – Never mind!
По сути, вся философия ХХ века это философии языка. Но надо было дать оппозицию языку чем-то заменить материю. Так на смену языку пришла философия телесности – подробно см. (Подорога 1995).
Эти смерти разнесли его тело на части, такие мелкие, что от него ничего не осталось, кроме этой притчи.
Разрывание тела бога или тотемного животного на части – известный архаический ритуал. Отголоски его, например видим в истории Орфея, которого вакханки разорвали на части. Разрывания иудейскими воинами одежды Христа перед казнью, несомненно, – также реминисценция к этому древнему обряду. В рассказе Кортасара «Менады» восторженные слушатели на симфоническом концерте разрывают на куски тело дирижера.
5. Бред величия
В плане актуализации архаических представлений в превращении чрезвычайно важен для нас бред величия, поскольку в нем отождествление совпадает с превращением. Больной в собственный глазах становится, кем угодно, сразу многими, как, например, известная в истории психиатрии начала ХХ века пациентка Юнга, портниха, которая отождествляла себя с Сократом, Лорелеей, Господом Богом, Матерью Божьей, Марией Стюарт и многими другими, менее известными персонажами.
В случае доктора Йозефа Менделя, описанном Ясперсом больной обладал утонченным интеллектом. Будучи юристом, он увлекся философией, читал Кьеркегора, Больцано, Рикерта, Гуссерля и Бренатно. Его психоз носил характер религиозного бреда с идеями величия, но не полного, тотального величия. Суть его бредового сюжета заключался в том, что он должен был каким-то образом освободить человечество, наделить его бессмертием. С этой целью Верховный, Старый Бог сделал его Новым Богом и для придания ему силы он вселил в его тело тела всех великих людей и богов. Это вселение и было кульминацией психотической драмы:
Сначала для увеличения его силы Бог переселился в него и вместе с ним весь сверхъестественный мир. Он чувствовал, как Бог проникал в него через ноги. Его ноги охватил зуд. Его мать переселилась. Все гении переселились. Один за другим. Каждый раз он чувствовал на своем собственном лице определенное выражение и по нему узнавал того, кто переселялся в него. Так, он почувствовал, как его лицо приняло выражение лица Достоевского, затем Бонапарта. Одновременно с этим он чувствовал всю их энергию и силу. Пришли Д’Аннунцио, Граббе, Платон. Они маршировали шаг за шагом, как солдаты. <...>. Но Будда не был еще внутри него. Сейчас должна была начаться борьба. Он закричал: “Открыто!” Тотчас же он услышал, как одна из дверей палаты открылась под ударами топора. Появился Будда. Момент “борьбы или переселения” длился недолго. Будда переселился в него (Ясперс 1996: 195-196).
Настоящий случай интересен тем, что он приоткрывает механизм возникновения величия или, по крайней мере, один из возможных механизмов – представление о чисто физическом “переселении” в тело больного тел великих людей и Богов, чтобы потом можно было сказать “ Я – такой-то”, чего, впрочем, больной не говорит, поскольку его бред не является типичным бредом величия. Больной интроецирует в свое тело тела великих людей и богов. Отметим также еще два важных момента. Первый заключается в том, что, несмотря на то, что благодаря двойной ориентации больной, по-видимому, сохранял сознание своего “Я”, его уникальности, вероятно, понимая, что, несмотря на все переселения, он остается доктором Йозефом Менделем, пусть даже ему приходится выступать в роли “Нового Бога”, несмотря на это так же, как и в случае пациентки Юнга, даже в еще большей степени, больной отождествляет свое тело и свое “Я” с телами и “Я” (сознаниями) всех переселившихся в него людей и всей вселенной:
При всех этих процессах его “Я” больше не было личным “Я”, но “Я” было наполнено все вселенной. <...> Его “Я” было здесь, как прежде, не индивидуальным “Я”, но “Я” = все, что во мне, весь мир” (Ясперс: 198, 202).
Второй важный момент заключался в представлении о том, что Бог (“Старый Бог”, “Верховный Бог”) лишен обычных для верующего или богослова черт – всемогущества, всеведения и нравственного совершенства. Этот Бог несовершенен. Этот Бог “ведет половую жизнь”, Богу можно досаждать, чтобы он “уступил”, как-то на него воздействовать, у него меньше власти, чем у дьявола, его можно было “назначать властвовать”, как на должность.
Одним из ключевых положений системы Шребера, который так же вступал в чрезвычайно тесные и запутанные отношения с Богом, заключалось в том, что Бог очень плохо разбирается человеческих делах, в частности, не понимает человеческого языка. Шребер был посредником между Богом и людьми. В сущности, в его системе, которая была настолько сложной, что ее невозможно подвести под какую бы то ни было классификацию. Основной мегаломанический компонент заключался в том, что Шребер считал себя единственным человеком, оставшимся в живых для того, чтобы вести переговоры с Богом, тогда как все другие люди были мертвы. Он должен был спасти человечество. Для этого ему было необходимо превратиться в женщину (то есть пожертвовать своей идентичностью), чтобы стать женой Бога (в этом, собственно и был своеобразный элемент величия в системе Шребера).
И второй характерный момент, заключающийся в том, что бредовые пространственные перемещения Шребера позволяют сказать, что его тело, как и тело “стандартного мегаломана”, становится равным вселенной. Это замечает Канетти, говоря о Шребере, что в космосе, как и в вечности, он чувствует себя, как дома. Некоторые созвездия и отдельные звезды: Кассиопея, Вега, Капелла, Плеяды – ему особенно по душе, он говорит о них так, как будто это автобусные остановки за углом. <...> Его зачаровывает величина пространства, он хочет быть таким же огромным, покрыть его целиком. <...> О своем теле Шребер пишет так, как будто это мировое тело (курсив автора. – В. Р.) (Канетти 1997: 465).
Характерное для рассмотренных случаев представление о теле мегаломана как о мировом теле, то есть репродукции мифологической идеи тождества микрокосма и макрокосма.
Космогоничность разобранных выше примеров позволяет выдвинуть гипотезу, в соответствии с которой мегаломанический сюжет с телом, отождествляемым со всеми великими людьми и всей вселенной, является проигрыванием сюжета первотворения, и, соответственно, мегаломаническое “грандиозное тело”, равное всей вселенной, – это тело первочеловека, из которого творится макрокосм, тело, которое отдается в жертву сотворяемому миру и из которого этот мир и творится.
Логика этого отождествления следующая: мегаломан в “идеале” в своей экстраективной идентификации это бог, но, как можно было увидеть из наших примеров, не Верховный бог, а скорее младший бог, бог-сын. И в этом смысле его задача либо просто осуществить волю Верховного бога (как в случае доктора Менделя), либо исправить его ошибки (как в случае Шребера). Эта задача, в сущности, и сводится к тому, чтобы создать некий новый мир, новую вселенную, потому что мегаломан и в бредовом, и в объективном смысле остается совершенно один. В бредовом смысле все человечество погибло, в объективном смысле он коммуникативно отрезан от реальных объектных отношениях. Кроме него в мире никого нет (это, кстати, одна из возможных мотивировок прекращения бреда преследования – преследовать мегаломана больше некому). Есть только Старый бог, который уже плохо соображает или даже уже вообще умер (как в мегалогманическом проекте Ницше). Поэтому единственное спасение – и у мегаломана есть для этого ресурсы: ресурсы его бредового величия и всемогущества – это создать мир заново, пожертвовать себя миру, как и должен поступать младший бог, бог-сын христианской традиции, умирающий и воскресающий бог архаического мифа. И мегаломан создает бредовую новую вселенную практически в прямом смысле “из себя”, из своего экстраективно-бредового тела, уподобляясь в этом первочеловеку. Ср.:
Первочеловек – космическое тело, в мифопоэтических и религиозных традициях антропоморфизированная модель мира. В основе этого образа лежит представление о происхождении вселенной из тела первочеловека, объясняющее характерный для мифопоэтической картины мироздания параллелизм между микрокосмом и макрокосмом, их изоморфизм, однородность. Иногда в космологических текстах говорится о том, что члены тела первочеловека создаются из соответствующих частей вселенной, но чаще человеческое тело выступает как первичное и исходное, а космическое устройство как вторичное и производное. <...> В раввинистической литературе Адам изображается как первочеловек огромных размеров: в момент сотворения его тело простиралось от земли до неба, заполняя собою всю землю. <...> В средневековом мистическом тексте “Sefer chassidim” повествуется о том, как бог уменьшил размеры тела Адама, заполнявшего собою весь мир, последовательно отсекая от его членов и разбрасывая куски плоти по всему миру (Топоров 2000: 300).
Ср. также представления о конкретных перволюдях, например Пуруше и Пань-Гу, макрокосмические тела которых расчленялись, приносясь таким образом в жертву миру, в основу его творения.
Отзвуки идей жертвенности, соотносимых с диалектикой величия и преследования, мы находим во всех разобранных нами примерах, особенно явственно в случае доктора Менделя. В юнговских материалах, описывающих случай слабоумной портнихи мы находим даже фрагмент, где большую роль играет идея расчленения тела:
Стюарт: я имею честь быть фон Стюарт – когда я однажды это затронула, доктор Б. сказал: ей ведь отрубили голову <...> это опять-таки величайшая в мире трагедия – наше высшее Божество на небе, римский господин St. (собственное имя пациентки) высказался с проявлением сильнейшего горя и негодования, вследствие отвратительного смысла мира, где ищут смерти невинных людей – моя старшая сестра должна была так невинно приехать сюда, чтобы умереть – после этого я видела ее голову с римским Божеством на небе – ведь отвратительно, что всегда является такой мир, ищущий смерти невинных людей – С. вызвала во мне чахотку – когда я увидела ее лежащей на похоронной колеснице <...> и Мария Стюарт тоже была такой же несчастной, которой пришлось умереть невинно [Юнг 2000: 144].
По-видимому, здесь уместно вспомнить также архаические представления, связанные с культом умирающего и воскресающего бога (Осириса, Диониса, Фаммуза), архаического варианта мифа о первотворении и первочеловеке. Здесь также имеется диалектика смерти и воскресения, соотнесенная с диалектикой величия и преследования и, более того, актуализации этих представлений, позволяет уяснить мифологическую мотивировку и увязку этой соотнесенности: бога-мегаломана, тело которого соотносится с телом вселенной, в частности в растительном, аграрном варианте этого представления, преследуют, чтобы умертвить, принести в жертву, чтобы он потом воскрес во все величии, соотнесенном с величием обновленного в природном круговороте мира, поэтому столь обычным в мегаломаническом мире оказывается сюжет отождествления с Христом как позднейшим отголоском культа умирающего и воскресающего страдающего бога и отсюда противопоставления Отца, Верховного (старого) Бога Богу-сыну, страдальцу, избраннику и жертве, то есть самому больному.
Такого рода космическую жертвенность находим в поэзии Д.А. Пригова. Его лирический субъект сравнивает себя с великими людьми:
В Японии я б был Катулл, а в Риме был бы Хокусаем.
Объявляет себя спасителем мира:
Я глянул в зеркало с утра
И судорога пронзила сердце:
Ужели эта красота
Весь мир спасет меня посредством…
Он ведет диалог с богом:
Бог меня немножечко осудит А потом немножечко простит Прямо из Москвы меня, отсюда Он к себе на небо пригласит Строгий. Бородатый и усатый Грозно взглянет он из-под бровей: Неужели сам все написал ты? – Что Ты, что Ты. С помощью Твоей! – Ну, то-то же
Наконец он призывает к поеданию своего тела, что напрямую соотносится с рассмотренными выше случаями:
Вот ешьте меня, пейте – пропадай
Душа! – а от тебя кусочек
Отломят лишь, а прочее гуляй
Во поле.
Последнее напрямую относится с призывом Иисуса, обращенного ученикам: есть его плоть = хлеб и кровь = вино (Мф., гл. 26, ст. 26-28).
В дальнейшем развитии христианства это указание Иисуса реализуется в обряде евхаристии. Но сам обряд поедания тела бога восходит, конечно, к архаическим корням – к поеданию тела животного тотема.
Согласно Священному Писанию Иисус совершил на протяжении своих странствий с учениками много превращений: он исцелял прокаженных, бесноватых, слепых, безумных и бесноватых, он накормил толпу народа семью хлебами, превратил воду в вино на пиру в Кане Галилейской, наконец, он воскресил Лазаря, воскрес сам и явился перед учениками в преображенном виде.
Иисус пытался изменить идентичность своих учеников. Так Петр поменял свое имя (он был Симон), а перемена имени, скажем, при переходе от мирской жизни к монашеству является важной чертой превращения человека в совершено другую личности (например, «Отец Сергий», который из блестящего офицера (Степана Касатского) превратился в истового отшельника) – см., например, (Михайлова 2001: 21).
Однако деятельность Иисуса может быть рассмотрена не только в религиозном или историко-культурном, но и клиническом аспекте. Сейчас, в пору повального увлечения православием в России, это выглядит странно, однако в 1920-е годы с их богоборчески пафосом это было закономерно. Так, в журнале «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии)» была опубликована статья профессора Я.В. Минца «Иисус Христос – как тип душевнобольного», где Иисус рассматривался как параноик, то есть все происходящие роилось в его больном сознании, все превращения были галлюцинаторным бредом (Минц 1927). В этом, впрочем, нет ничего оскорбительного для Христа, Пророк Мухаммед был эпилептиком, а Будда страдал колитом.
Так или иначе, как ни рассматривать евангельскую историю об Иисусе, очевидно, что в ней явственно видны черты архаического мышления и мифа. Прежде всего, конечно, это отголосок культа умирающего и воскресающего бога. Это настолько общее место, что мы не стали бы о нем говорить, если бы оно не было связано с темой превращения. Ольга Фрейденберг написала в 1923 году статью «Въезд в Иерусалим на осле». Как известно, Иисус въехал в этот город действительно на осле, причем он велел ученикам взять и привести этого осла из определенного места, то есть он заранее знал, где этот осел находится (кстати, вот доказательство того, что не всякое чудо является превращением – предвидение будущего таковым не является). О.М. Фрейденберг увязывает этот евангельский фрагмент сюжета с романом Апулея «Золотой Осел», имеющий, как известно и другое название – «Метаморфозы», герой которого Луций за безнравственное поведение превращен в осла (Фрейденберг 1980: 500). Что же это за осел и почему он золотой? Осел – это тотемное божество солярного происхождения, поэтому – он золотой. Имя Луций означает «сияющий», то есть имя героя тоже связано с солнцем (с. 514). Превращение героя в осла – это некий обряд инициации, после которого Луций вновь превращается в человека. Таким образом, пишет Фрейденберг, «Иисус, едущей на осле повторяет собой осла, который сам является божеством, но в форме еще более древней, чем Иисус (с. 502).
Одним из основных тотемов в первобытной культуре был также и медведь – см. (Иванов, Топоров 2000а). Этот факт отражается в сюжетах типа «Локис» Мериме, где муж в первую же брачную ночь превращается в медведя и загрызает жену на брачном ложе. С этим же тотемным представлением связан сюжет знаменитой сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо», суть которого в том, что герой не превращается в медведя. Почему он не превращается в медведя? Потому что он любит принцессу и не хочет разорвать ее на куски. Таким образом, именно любовь останавливает круг превращений, восстанавливая гармонию и стабильность в мире, «любовь, которая движет солнце и прочие светила» (последняя строка «Божественной комедии»). Мы вернемся к этой теме в заключении нашего исследования.
6. Превращения в сюжете
Теперь же мы обратимся к роли превращения в сюжете художественного дискурса.
Все модальности (см. начало статьи) имеют сюжетообразующий характер.
1. Алетические. Сюжет возникает тогда, когда один из членов модального трехчлена меняется на противоположный или соседний, например, невозможное становится возможным. Так, в истории о Тангейзере епископ объявляет, что скорее его посох зацветет, чем Бог простит поэта Тангейзера за воспевание языческой богини Венеры. Герой становится изгнанником и странником, Бог прощает его, и посох епископа расцветает.
2. Деонтические. Сюжет возникает тогда, когда, например, запрет нарушается. Герой совершает преступление, как Раскольников, или жена изменяет мужу, как Анна Каренина.
3. Аксиологические. Сюжет возникает тогда, когда безразличное становится ценным. Например, когда герой влюбляется в прежде не замечаемого им человека. Одновременно он может и нарушить запрет, как поступила Анна Каренина. Как правило, эти два типа сюжета составляют пару: погоня за ценностью приводит к нарушению запрета.
4. Эпистемические. Это сюжеты тайны или загадки, когда неизвестное становится известным. Эпистемический сюжет – самый распространенный в литературе; на нем построены целые жанры (комедия ошибок, детектив, триллер).
5. Пространственные. Сюжет возникает тогда, когда герой, например, уезжает путешествовать, изменяя модальность "здесь" на модальность "там". Это сюжет "Божественной комедии" Данте, "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева, "Писем русского путешественника" Карамзина.
6. Временные. Сюжет времени возникает и становится популярным в литературе ХХ в., когда под влиянием теории относительности создается и разрабатывается сюжет путешествия во времени.
Для того, чтобы сюжет был вообще возможен, необходимо линейное время, отграничивающее текст от реальности (Лотман 1992). Разберем трагедию Софокла "Эдип-царь".
Рассмотрим два высказывания.
(1) Эдип убил встреченного им путника и женился на царице Фив.
(2) Эдип убил своего отца и женился на своей матери.
Первое высказывание содержит скрытую загадку, второе – уже раскрытую. В чем тут секрет? Оба высказывания говорят об одном и том же:
(3) Эдип убил Х и женился на У, –
но по-разному. Эдип не знал, что незнакомец, встреченный им на дороге, его отец, а царица Фив его мать. Он совершил эти действия по ошибке. Ошибка qui pro quo ("одно вместо другого") коренится в самом языке.
Каждое имя может быть описано по-разному. Лай – это царь Фив, отец Эдипа, незнакомец, которого Эдип встретил на дороге. Иокаста – царица Фив, мать Эдипа, жена незнакомца, которого Эдип встретил и убил. Эти выражения отсылают к одному объекту, но имеют разные смыслы. Но ошибка заключается как раз в онтологизации смыслов. Эдип знал, что ему предсказано, что он убьет собственного отца, поэтому он бежал из родного дома, не зная, что покидает своих приемных родителей. Если бы ему хотя бы на секунду пришло в голову, что незнакомец, встреченный им на дороге, его отец, а царица Фив его мать, то он бы, конечно, не совершил всего этого. Но в сознании Эдипа это были разные люди. Он не мог подозревать своего отца в каждом встреченном им мужчине. Так развивается эпистемический сюжет ошибки, qui pro quo. В наиболее чистом виде он встречается в комедии ошибок от Менандра и Плавта до «Комедии ошибок» и «Двенадцатой ночи» Шекспира (где реализуется архаический близнечный миф – см. (Иванов, Топоров 2000) и далее вплоть до романов Достоевского с их двойниками – реальными и идеологическими (Бахтин 1963).
Но для того чтобы такой сюжет стал возможен, повторяем, необходима смена циклического мифологического времени на историческое линейное.
Наиболее очевидным линейного развертывания циклических текстов является появление персонажей-двойников <…> В одной из комедий Шекспира мы имеем дело с квадратом: два героя-близнеца, слуги которых также близнецы («Комедия ошибок») (Лотман 1992: 226-227)
Ясно, что подобного рода интрига теснейшим образом опутана бесконечными превращениями, связанными, прежде всего, с переодеваниями. Переодевание – это демифологизированное превращение. В комической опере Моцарта «Так поступают все женщины» («Cosi fan tutte») два героя переодеваются в экзотические костюмы, чтобы проверить верность своих возлюбленных: каждый является к возлюбленной другого в превращенном неузнанном виде.
Рассмотрим в плане связи сюжета qui pro quo с превращениями – отчасти пародируя Славоя Жижека – сюжет фильмов Андре Юнебеля про Фантомаса.
7. «Фантомас»
Три фильма про Фантомаса, прогремевшие в конце 1960-х – начале 1970-х годов занимают особую роль в нашем дискурсе о превращении. Лишь на первый взгляд кажется, что «Фантомас» – обычная криминальная комедия. Но чем тогда объяснить столь ошеломляющий успех этих фильмов, по тем временам сравнимый разве лишь с успехом сериала «Семнададцать мгновений весны»?
В плане превращений эти фильмы не знают себе равных: Фантомас превращается в журналиста Фандора, комиссара Жюва, тюремщика, затем во второй серии, «Фантомас разбушевался», – в профессора Лефевра (одновременно в профессора «превращается» и Фандор – то есть в этой серии действуют уже три двойника) затем в третьей серии, «Фантомас против Скотланд Ярда», он предстает сначала как Уоолтер Браун, а затем как лорд МакРешли; соответственно Фандор «прагматически» превращается в Фантомаса в глазах комиссара Жюва, затем во второй серии – в профессора Лефевра (Фандор перенимает у Фантомаса его технику, и это, как будет показано ниже, не случайно). Более всех метаморфоз-превращений-переодеваний претерпевает комиссар Жюв (Луи де Фюнес) он превращается (переодовается) в бродягу, чтобы следить за Фандором, которого он подозревает в том, что тот и есть Фантомас. Кончается тем, что комиссара арестовывают свои же полицейские (вот очень четкий образец работы превращения-переодевания с мотивным блоком qui pro quо). Особенно много метаморфоз во второй серии – Жюв переодевается в целях конспирации в итальянского офицера, в проводника поезда, затем в чистильщика ботинок в гостинице, в священника, в пирата на маскараде. Вообще во второй серии превращается все и вся: душевая трубка становится аппаратом для подслушивания, машина Фантомаса превращается в самолет, искусственная пиратская нога – в автоматическое огнестрельное оружие. Фильм увенчивается сценой маскарада. Быть может, превращение как несомненная функция маскарада, бахтинского карнавала, когда король превращается шута, шут – в короля, лицо – в зад и vice versa – это и есть разгадка культурной функции превращения? Ведь что такое карнавал?
В книге Бахтина о Рабле изображен, в сущности, бедлам. Можно сказать, что Бахтин сделал из эстетики веселый бедлам. Веселый, во всяком случае, именно в этой книге. Приведу только один пример. Самые важные сферы деятельности, показанные Бахтиным в романе Рабле, это, во-первых, гротескное обжорство и пьянство, во-вторых, гротескное выделение – образы мочи и кала – и наконец, в-третьих, гротескное совокупление.
Что такое был карнавал? Это когда народ жил обычной нормальной жизнью, и ему вдруг раз в год целую неделю разрешали вести себя, как угодно – разнузданно, фамильярно, беспутно, безумно. В сущности, мудрое средневековье прививало раз в год народу шизофрению.
Что происходит при шизофрении? Прежде всего, регрессия к архаическим стадиям психосексуального развития. А именно – оральной, анальной и фаллической. Именно эти три стадии подчеркивает Бахтин в романе Рабле – оральную (обжорство и пьянство), анальную (выделения кала и мочи) и фаллическую (гротескные образы совокупления).
(При этом Бахтин на каждом шагу употребляет слово «амбивалентный» – все у него амбивалентно: смерть чревата рождением, голова превращается в зад, в аду веселятся, шут становится королем и так далее. Неизвестно, читал ли Бахтин Блейлера, (Фрейда наверняка читал), а ведь амбивалетность – это главное, что определяет шизофренический схизис. В одном месте, говоря о ситуация рождения Пантагрюэля, Бахтин прямо говорит о схизисе (конечно само слово он не употребляет. Дело в том, что Пантагрюэль родился уже таким огромным, что поневоле своими родами убил свою мать. И вот Гаргантюа то ревет быком, вспомнив об умершей жене, то начинает радоваться и ликовать, вспомнив о родившемся сыне, то делает и то и другое одновременно. Это очень напоминает хрестоматийный пример из «Руководства» Блейлера, когда он говорит о схизисе у женщины, которая убила своего ребенка. Глаза этой женщины плачут, потому что это был ее ребенок, а рот смеется, потому что это был ребенок от нелюбимого мужа.)
Но карнавал проходит и начинается обычная скучная «здоровая» жизнь, но она не кажется более такой тягостной, так как она обновлена предыдущим карнавалом.
Превращение – это обновление.
Но вернемся к Фантомасу. «Фантомас» представляется нам экзистенциальным фильмом. Фантомас с его серо-голубой маской, Фандор (обоих играл тогда уже немолодой Жан Маре) с избыточно волевым лицом Джеймса Бонда и комиссар Жюв (Луи де Фюнес) с его сверхподвижной мимикой великого комика – это, по нашему мнению, реализация лакановского противопоставления Реального, Символического и Воображаемого. Реальное как фантом, как абсолютное зло, дьявол, характеризуется тем, что у него нет собственной субстанции. Поэтому оно должно искать себе какую-то форму, какое-то тело. (Именно поэтому Иисус поместил бесов в свиней). Как остроумно и глубоко заметила в устном разговоре профессор Т.М. Николаева, «ЗЛО супрасегментно» (как ударение или долгота, которые надстраиваются над фонетической сегметной цепочкой слова). То есть ЗЛОму субъекту требуются субъекты-симулякры, на уровне Воображаемого, то есть на уровне Эго (идея приблизительной соотнесенности лакановских регистров Реального, Воображаемого и Символического как некоего подобия и развития фрейдовских субстанций – Оно, Эго и СверхЯ – была высказана (также в устном разговоре) Александром Сосландом). Именно поэтому Фантомас надевает макси и фактически тела других людей – прежде всего, Фандора, затем Жюва, потом профессора Лефевра и лорда МакРешли. Именно поэтому Фантомасу так важно закрепить себя на письме: он к делу и не к делу всем сует свою визитную карточку, где написано FANTOMAS, что является иллокутивным самоубийством, так как запись сама себя зачеркивает: Фантомас – это фантом, призрак, который не может быть зафиксирован на письме.
Фандор олицетворяет собой Символическое, Закон кинематографический, закон жанра триллера – это своеобразное декартовское cogito, противостоящее хаосу зла – ср. остроумную статью В. Куренного «Философия боевика» (Куренной 1999). Но Фандор не только противостоит Фантомасу как Символическое Реальному, но и слит с ним подобно тому, как Реальное порой сливается с Символическим: например, приказ «Ты должен» равносилен, по Канетти, «отсроченной смерти» (Канетти 1997). Почему мы говорим, что Фандор слит с Фантомасом? Потому что он его главный двойник, они любят одну и ту же женщину, невесту Фандора Элен (Милен де Монжо) и главное, что они оба олицетворяют изнанку Реального, его «непристойность», как сказал бы Лакан. Фантомас говорит Фандору: «Я превращу тебя в гения зла, от твоего имени и с твоим лицом я буду творить зло». В сущности, Фантомас и Фандор в прямом смысле слова – близнецы и братья. Поскольку до конца так и неизвестно, во всяком случае, в этой версии истории про Фантомаса, кем является на самом деле Фантомас, и вполне возможно предположить, что они с Фандором, к примеру, разлученные в детстве близнецы – распространенный мотив в мировой литературе и мифологии близнечный миф; ср.: «Между братьями-близнецами с самого их рождения начинается соперничество» (Иванов 2000: 174).
Но самую главную роль в трилогии играет комиссар Жюв – без него фильма не было бы. Это человек, погруженный в сферу Воображаемого в повседневную жизнь со всеми ее перипетиями. Конечно, Жюв главный герой этого фильма. Прежде всего, он противопоставлен Фантомасу как Воображаемое Реальному, повседневное – непостижимому. Жюв – маленький, нелепый, живой, подвижный, смешной, остроумный, веселый, неунывающий, по-своему умный и чрезвычайно изобретательный, а также храбрый и честный человек с неподражаемой мимикой Луи де Фюнеса. Фантомас – неподвижный, с застывшей маской, голова у него поворачивается только вместе с плечами; у него отличная фигура (как и у Фандора), он очень серьезен и начисто лишен чувства юмора, его мрачное «Ха-ха-ха!» совсем не веселое и лишь является выражением его пошло-романтической инфернальности. Фантомас пуст, опустошен, за маской ничего нет. Реальное всегда пусто, потому что на самом деле его не существует – это призрак – фантом – фантомас.
В отличие от фантомасовских преврашения Жюва носят чисто житейский и исключительно сюжетообразующий характер. Так он переодевается в пирата на маскараде и приделывает себе искусственную пиратскую ногу, которая впоследствии оказывается пулеметом. Он придумывает себе третью механическую руку, которую можно вместе с пистолетом спрятать под плащом и в нужный момент вынуть ее и выстрелить во врага. За эту третью руку он и попадает в сумасшедший дом. Диалог между «безумным» Жювом и невозмутимым психиатром, а затем помещение Жюва в палату с мягкими стенами делает его фигуру почти трагической: лучший полицейский Франции, кавалер ордена Почтенное Легиона, попадает в дурдом только потому, что он слишком сильно хотел покарать зло – а это обществу не требуется. Обществу в каком-то смысле выгодно держать Фантомаса – чтобы было про что читать в газетах (недаром в начале фильма на этом строит свою журналистскую карьеру Фандор).
Конечно Жюв может быть смешон. Он во всех видит фантомасов. Он хватает за лицо Фандора и лорда МакРешли и кричит: «Фантомас, снимай свою маску!» Он говорит Фандору: «Я знаю, это ты – Фантомас», но он по-своему прав – на уровне экстенсионалов: Фандор – почти Фантомас, во всяком случае, это один и тот же человек, один и тот же актер.
Что касается фигуры Фантомаса, то он, несомненно, реализует адлеровский комплекс неполноценности, который дает гиперкомпенсацию в жажде власти над миром. Все его маски – это люди либо сильные (Фандор), либо богатые (Уолтер Браун, лорд МакРешли), либо интеллектуальные (профессор Лефевр). Но это лишь на уровне поверхностного сюжета, на уровне глубинном Фантомас продолжает оставаться воплощением Реального во всех трех сериях Чего стоит, например, эпизод с говорящей лошадью в третьей серии, когда в сцене охоты Жюв садится на лошадь Фантомаса с прикрепленным к седлу радиоприемником, из которого раздаются голоса приспешкников Фантомаса. Жюв изумленно сморит на лошадь, которая шевелит губами, как будто это она говорит голосом Фантомаса, голосом Реального.
Реальное – это тотем, Медведь из «Локиса» и «Обыкновенного чуда», где превращения не происходит, так как герой, уже побыв медведем, слишком боится реального себя – дикого зверя, который может разнести принцессу на куски, когда она его поцелует.
Поэтому Фантомаса нельзя догнать и поймать, как нельзя догнать и поймать самого себя.
8. Диалектика Раба и господина
С 1933 по 1939 годы Александр Кожев читал в Париже лекции по «Феноменологии духа» Гегеля. Это был необычный интерпретатор философии Гегеля, и на лекции его собирался цвет французской интеллектуальной элиты. Среди них был Жак Лакан. Посещение лекций Кожева, дружба с ним и чтение «Феноменолгии духа» сформировала один из самых интересных философско-психоаналитических концептов Лакана – диалектику раба и господина. Эта тема интересует нас потому, что здесь превращение происходят на уровне философских концептов, которые превращаются на уровне концептов психоаналитических.
Вот что пишет Гегель об этой теме: [ 3. Г о с п о д и н и р а б. – (α) Господство. ] – Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие сознания, а сущее для себя сознание, которое опосредствовано с собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно синтезировано с самостоятельным бытием или с вещностью вообще. Господин соотносится с обоими этими моментами: с некоторой вещью как таковой – с предметом вожделения, и с сознанием, для которого вещность есть существенное; и так как а) в качестве понятия самосознания господин есть непосредственное отношение для-себя-бытия, в) теперь он вместе с тем существует как опосредствование или для-себя-бытие, которое есть для себя только благодаря некоторому другому, то он соотносится а) непосредственно с обоими и в) опосредствованно с каждым через Другое. Господин относится к рабу через посредство самостоятельного бытия, ибо оно-то и держит раба; это – его цепь, от которой он не мог абстрагироваться в борьбе, и потому оказалось, что он, будучи несамостоятельным, имеет свою самостоятельность в вещности. Между тем господин властвует над этим бытием, ибо он доказал в борьбе, что оно имеет для него значение только в качестве некоторого негативного; так как он властвует над этим бытием, а это бытие властвует над другим, [над рабом], то вследствие этого он подчиняет себе этого другого. Точно так же господин соотносится с вещью через посредство раба; раб как самосознание вообще соотносится с вещью также негативно и снимает ее; но в то же время она для него самостоятельна, и поэтому своим негативным отношением он не может расправиться с ней вплоть до уничтожения, другими словами, он только обрабатывает ее. Напротив того, для господина непосредственное отношение становится благодаря этому опосредствованию чистой негацией вещи или потреблением; то, что не удавалось вожделению, ему удается – расправиться с ней и найти свое удовлетворение в потреблении. Вожделению это не удавалось из-за самостоятельности вещи, но господин, который поставил между вещью и собой раба, встречается благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью; сторону же самостоятельности [вещи] он предоставляет рабу, который ее обрабатывает.
В обоих этих моментах для господина получается его признанность через некоторое другое сознание; ибо это последнее утверждает себя в этих моментах как то, что несущественно, один раз – в обработке вещи, другой раз – в зависимости от определенного наличного бытия; в обоих случаях оно не может стать господином над бытием и достигнуть абсолютной негации. Здесь, следовательно, имеется налицо момент признавания, состоящий в том, что другое сознание снимает себя как для-себя-бытие и этим само делает то, что первое сознание делает по отношению к нему. Точно так же здесь налицо и второй момент, состоящий в том, что это делание второго сознания есть собственное делание первого, ибо то, что делает раб, есть, собственно, делание господина; для последнего только для-себя-бытие есть сущность; он – чистая негативная власть, для которой вещь – ничто, и, следовательно, при таком положении он есть чистое существенное делание; раб же есть некоторое не чистое, а несущественное делание. Но для признавания в собственном смысле недостает момента, состоящего в том, чтобы то, что господин делает по отношению к другому, он делал также по отношению к себе самому, и то, что делает раб по отношению к себе, он делал также по отношению к другому. Вследствие этого признавание получилось (Гегель 2007 <1807>: 115-117).
Как мне кажется, смысл гегелевского высказывания, если перевести его на обыденный язык, скажем так, позднего Витгенштейна, заключается в том, что Господин может существовать только за счет раба, без раба он беспомощен, тот его обихаживает, помогает ему в его любовных делах, как в античной комедии Теренция, Плавта и Менандра, в общем без ему раба не обойтись, поэтому господин зависит от раба.
Но существует и Абсолютный Господин – Господь. Как он может зависеть от своего раба, раба Божьего?
Есть такая латышская дайна:
Что ты, Боже, будешь делать,
Когда мы все перемрём?
Кто будет зажигать тебе светильники?
Кто будет приносить тебе жертвы?
В свою очередь, раб, поскольку господин зависит от него, становится в какой-то мере независимым от господина, и в определенном смысле сам превращается в господина. Вот такое примитивное, но зато ясное понимание этой диалектики я предлагаю.
Лакан различает античного раба и раба капиталистического, пролетария. В последнем случае все более или менее ясно. Пролетариат совершает переворот и превращается из раба в господина: «Каждая кухарка, говорил Ленин, может управлять государством». А вот античным рабом, насколько мне известно, конкретно, на текстах, Лакан не занимался. Поэтому мы напомним читателю несколько цитат из комедии Плавта «Куркулион».
Раб в античной комедии в сюжете занимает служебное положение, он помогает господину в его любовных похождениях и в этом смысле он «служит наслаждению господина». Но как же нахально ведет себя раб по отношению к господину, как он резонирует, бранится, переругивается с ним, поучает его!
Палинур (раб.– В.Р.)
Куда идешь так поздно ночью из дому
В таком наряде и с такою свитою?
Федром (господин. – В. Р.)
В глухую ночь ли, в ранние ли сумерки,
В день тяжбы ли с противником – куда велят,
Идти я поневоле должен.
Палинур
Наконец
Пора, пора бы...
Федром
Наконец пора отстать.
Палинур
Неладно так, неслыханно! Ты сам себе
Прислужником! Разряжен, а несешь свечу.
Федром
Пчелиную работу, воск свечи моей,
Как не снести из сладости истекшую
К моей сладчайшей сладости?
Палинур
Что ж думать мне?
Куда идешь ты?
Федром
Если спросишь, дам ответ.
Палинур
Так я спрошу: ты что ж ответишь?
Федром
Видишь, храм
Вот это Эскулапов?
Палинур
Знаю много лет.
Федром
А близ него та дверца драгоценная.
Привет мой! Здравствуй, дверца сокровенная!
Палинур
Вчера ль, позавчера ли твой прошел ли жар?
Покушал ли ты на ночь?
Федром
Ты смеешься что ль?
Палинур
А ты, безумец, с дверью стал здороваться?
Федром
Чудеснейшая дверь – и молчаливая:
Не молвит ни словечка! Отопрут – молчит;
Она ко мне тихонько в ночь пройдет – молчит.
Палинур
Федром, неужто дело недостойное
Тебя и твоего происхождения
Затеял ты? Неужто расставляешь сеть
Невинности какой-либо или кому
Невинностью быть должно?
Федром
Никому. И пусть
Юпитер не допустит!
Палинур
Я того ж хочу.
С любовью так устраиваться следует,
Чтоб не было какого нарекания,
Узнается – не вышло бы бесчестия.
Федром
Что это значит?
Палинур
То, чтоб осторожней быть.
Люби всегда открыто, на глазах у всех.
Федром
Но ведь живет тут сводник.
Палинур
Нет препятствия,
Никто не запрещает, если деньги есть,
Купить, что на продажу выставляется:
Не делай по владеньям огороженным
Тропы, не тронь вдовы, замужней, девушки
И мальчиков свободных. В остальном – люби.
Федром
Да сводников же дом тут.
Палинур
Пусто будь ему!
Федром
За что?
Палинур
В преступном рабстве он находится.
Федром
Бранись еще!
Палинур
Охотно.
Федром
Замолчишь ли ты?
Палинур
Ты сам велел браниться.
(Плавт 1997)
Как видим, раб и господин настроены амбивалентно друг по отношению к другу. Раб склонен морализировать, ругать господина, он называет его безумцем, наставляет в том, как вести любовные дела, но в целом сочувствует ему и делает в конечном счете все, как хочет господин. Они находится, как сказал бы Эрнст Мах, в отношении «принципиальной координации».
Лакан накладывает диалектику раба и господина на диалектику отношений психоаналитика и пациента. Психоаналитик (исходно – господин) зависит от пациента, потому что пациент содержит его материально. Пациент (изначально – раб) получает независимость о психоаналитика и превращается из раба в господина диктует ему свои условия – см. (Лакан 2008). Происходит это на уровне переноса, или трансфера, одного из важнейших, если не важнейшего в психоанализе процесса. Перенос же представляет собой не что иное, как превращение. Психоаналитик в глазах пациента превращается в так называемый первичный объект, как правило, в отца или мать, и либо влюбляется в него, либо начинает его ненавидеть. Правило абстиненции, введенное Фрейдом, не позволяет психоаналитику ответить на трансферентное чувство пациента, и психоаналитик становится заложником, рабом пациента.
9. Как прекратить превращения?
Когда превращение становится однообразным: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иаква и так далее еще очень долго, – то оно само превращается в повторение, в бесконечный регресс.
Можно ли остановить превращение?
Напомним, почему превращение не произошло в «Обыкновенном чуде»: потому что герой по-настоящему любил принцессу. Только нечто подлинное может прекратить круг сансары: любовь или окончательный уход в смерть, которая в буддизме оценивается как переход в подлинную реальность.
У Толстого есть такая повесть «Фальшивый купон». Она посвящена тому, как превращаются деньги, как от денег растет зло, зло разрастается, превращения становятся все более ужасными, пока страшный убийца не встречает непротивления у жертвы.
Человеку сделали плохо – он ответил тем же – механизм защиты – проекция, модальность – негативная аксилогия, то есть «Плохое влечет за собой плохое». В сущности, это инвариантное метавысказывание, характеризующее повесть «Фальшивый купон» в целом. Плохое влечет за собой еще большее зло, и это зло растет в геометрической прогрессии. Вот в этом и состоит сюжет повести. Здесь задействована буддийская идеология, которую Толстой в поздние годы (повесть была закончена 1904 году) очень хорошо знал. В целом здесь важны следующие понятия: понятие кармы и круга сансары. Буддизм учит, что сущность человека под влиянием его поступков постоянно меняется. Поступая плохо, человек, пожинает болезни, бедность и унижения. Поступая хорошо, он вкушает радость и умиротворенность. Таков закон кармы (то есть морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в будущих перевоплощениях. Этот закон составляет механизм сансары, который называется бхавачакра, колесо жизни или круг сансары. Каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой кармический след, который приводит человека к следующему воплощению. Цель буддиста – жить так, чтобы не оставлять кармических следов. Это значит, что его поведение не должно зависеть от желаний и привязанностей к объектам желаний. Высшую цель религиозной жизни буддизм видит в освобождении от кармы и выходе из круга сансары. В буддизме это состояние называется нирваной. Культура поведения в буддизме, так называемый восьмеричный, или средний путь составляет пять основных заповедей: не убей, не бери чужого, не лги, не пьянствуй, не прелюбодействуй (все эти грехи мы встретим на страницах «Фальшивого купона»), а также добродетели такие, как щедрость, благонравие, смирение, очищение.
Убийца Степан случайно попал в дом вдовы Марии Семеновны и убил ее. Но она не сопротивлялась – это кульминация повести, блокировка кармы – (непротивление злу насилием) – и только сказала ему перед смертью: «Ох! Великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь». И с убийцей-маньяком произошел перелом, так на него эти слова подействовали. Итак, «Степан полоснул ножом по горлу Марию Семеновну» и в первый раз встретился с непротивлением. Это его так поразило, что он сам сдался властям. Он не мог забыть ее голос, который говорил: «Разве можно?», пытался покончить с собой, потом стал компульсивно молиться. Сначала молитвы помогали Степану, потом перестали помогать.
История перерождения Степана Пелагеюшкина, конечно, напоминает, не может не напомнить, историю папы Григория Столпника, изложенную в средневековом сборнике «Gesta romanorum» и затем благодаря гению Томаса Манна запечатленную в ХХ веке в его повести «Избранник». Григорий был великий грешник, в сущности, Эдип, он спал с собственной сестрой, потом с собственной матерью, но все это его так потрясло, что он 17 лет простоял на каменном утесе, так что превратился в какое-то сморщенное существо, и тогда кардиналы из Рима призвали его стать папой. К тому времени, 17 лет простояв на одном месте, он совершенно преобразился и принял этот пост со смирением.
Как же сложилась судьба раскаявшегося убийцы Степана? «И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали». Молитвы механизировались, превратились путем механизма изоляции аффекта в чистую обсессию. Но главное, что эта обсессия не выполняла своих защитных функций – она не снимала тревогу. Тогда Мария Семеновна явилась ему галлюцинаторно, то есть Степан сменил механизм защиты обсессивно-компульсивной изоляции на сугубо психотическую экстраекцию. И сохраняя пока обсессивность, «до трех раз он спросил ее, прощает ли она его». И тогда он проснулся. Пробуждение у Толстого играет не меньшую роль, чем у Гурджиева. Пробуждение от сна жизни – это буддийская тема. В корейском романе «Облачный сон девяти» девять персонажей видят коллективный сон (у буддистов это бывает – «восток – дело тонкое!»), который представляет их жизнь, «круг сансары», потом они просыпаются от сна жизни в смерть, появляется буддийский монах и уводит их в нирвану.
Итак, Степан Пелагеюшкин проснулся, и ему вдруг полегчало.
В одной камере со Степаном сидели бывший дворник вор Василий, который когда-то лжесвидетельствовал по поводу фальшивого купона на суде против крестьянина Ивана Миронова, и иконоборец Иван Чуев. «Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворным богам, а поклоняться в духе и истине». Вот так вот прямо и сказал! Чуев читал Степану Евангелие от Матфея, главу XXV, ст. 31-46, где говорится о проклятии грешникам и прощении раскаявшимся, читает сцену казни Иисуса, когда Иисус говорит: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят, а над ним насмехались стражники, дескать, пусть спасет самого себя, как других спасал», «Один из повешенных злодеев злословил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же разбойник сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе: ныне пребудешь со мною в раю». Это уже Лука XXIII, 32-43.
Тогда Степан (он все еще действует в обсессивно-комульсивном «стиле») отнял деньги у бродяг, которые они выиграли у богатого арестанта (здесь потихоньку вызревает тема «Левия Матвея», Матфея-мытаря, будущего Евангелиста). Его били, но он покорно принял наказание. Степан принял решение – выучиться грамоте, чтобы читать Священное Писание самому. «Ему открылась тайна букв» и, как пишет Толстой, открылись «смысл» и «значение» (Sinn und Bedeutung!), и одиночество теперь, не тяготило его; он познал радость приобщения к Большому Тексту. «Теперь не Чуев, а Степан читал в камере Евангелие, и палач Махоркин и вор Василий его слушали» В Результате – блокировка «плохой кармы» и общего насилия оказалась такой сильной, что палач Махоркин отказался исполнять свои обязанности – казнить крестьян, которые забили до смерти Петра Николаевича Свентицкого. Но это еще не все, хотя осталось немного. Махин, гимназист, который в начале повести подделал купон, стал судебным следователем в том округе, где судили Степана, и его поразило, «что это человек вполне свободный, нравственно недосягаемо высоко стоящий над ним». То есть опять таки произошло очищение (одна из буддийских добродетелей), даже у Махина. Лиза Еропкина, которая ухаживала за Махиным, будучи богатой невестой, отказывается от своего имущества (тема «Толстой и Витгенштейн»), чтобы проверить его любовь, а жена Петра Николаевича Свентицкого, забитого крестьянами, Наталья Ивановна, отказывается от идеи мщения за мужа, когда узнает, что палач Махоркин отказался казнить крестьян. Об этом ей рассказывает становой. Вместе они составляют телеграмму царю с просьбой простить крестьян. Царь сначала посмеялся, но ночью ему приснился, сон: «Три виселицы» и голос: «Твоя работа! Твоя работа!» – и царь (это был, очевидно, Николай II) впервые задумался об ответственности, которая на нем лежала перед народом.
У Евгения Михайловича Смоковникова, который когда-то дал сыну купон на два с половиной рубля, между тем, «дела шли все хуже и хуже». А вор, бывший дворник Василий, который тем времени убежал из тюрьмы, украл «у купца Краснопузова миллион» и прислал в конверте Евгению Михайловичу «четыре сторублевых бумажки» («Возвращаю проклятые деньги»)
Прошло 10 лет. Митя Смоковников был инженером с большим жалованьем и встретил на рудниках Степана Пелагеюшкина, про которого ему сказали, что, несмотря на то, что тот «сгубил 6 душ, он святой человек», «и Митя задумался и ...сблизился с отцом».
Можно сказать, что превращение это удел обыденной жизни, иллюзорной реальности, в которой мы все живем, в шизореальности, как мы ее назвали в работе (Руднев 2009). В скрытой от нас подлинной реальности Добра и Любви, там, где нет времени и пространства, превращений не бывает. В вечности не бывает превращений
Литература
- Бинсвангер Л. Случай Элен Вест // Экзистенциальная психология. М., 2001.
- Блейлер Э. Руководство по психиатрии. М. 1993 <1913>.
- Брейер Й.-Фрейд З. Исследования по истерии. М., 2005<1896>.
- Канетти Э. Масса и власть. М., 1997.
- Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М.. 1997.
- Лакан Ж. Семинараы. Кн. 17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008.
- Лотман Ю.М. Происхождении сюжета с типологической точки зрения // Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.
- Иванов В.В.-Топоров В.Н. Близнечный миф / Мифы народов мира, т. 1. М., 2000.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2007 <1807>.
- Кафка Ф. Дневники. М., 1998.
- Лэйнг Р. Расколотое Я: Антипсихиатрия. М., 1995.
- МакВильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М., 1998.
- Минц Я.В. Иисус Христос – как тип душевнобольного // Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии)». Л., 1927.
- Николл М. Психологические комментарии к учению Гурджиева и Успенского. Т. 1-2. М., 2004.
- Павич М. Хазарский словарь. М., 2006.
- Плавт. Куркулион / Пер. с лат. А. Артюшкова // Плавт. Собр. Соч. в 3-х т. Т. 2. М., 1997.
- Подорога В.Н. Феноменология тела. М., 1995.
- Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. 2000.
- Руднев В. Характеры и расстройства личности. М., 2002.
- Руднев В. Философия языка и семиотика безумия: Избранное. М., 2007.
- Руднев В. Введение в шизореальность (в печати), 2009.
- Топоров В.Н. Первочеловек // Мифы народов мира, т. 2. М., 2000.
- Фрейд З. Анализ фобии одного пятилетнего мальчика // Фрейд З. Знаменитые случаи из практики. М., 2007 <1907>.
- Фрейд З. Фрагмент анализа одного случая истерии // Там же, 2007а <1905>).
- Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости // Там же. 2007b <1909>. <1909>).
- Фрейд З. Психоаналитически заметки об одном автобиографически описанном случае паранойи (dementia paranoides) // Там же, 2007с
- Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле // Фрейденберг О.М. М., 1978.
- Цапкин В.Н. Личность как группа – группа как личность // Московский психотерапевтический журнал, 4, 1994.
- Шувалов А.В. Безумные грани таланта: Энциклопедия патографий. М., 2005.
- Юнг К.Г. Психология dementia praecox // Юнг К.Г. Труды по психиатрии. М., 2000 <1907>.
- Ясперс К. Избранные труды по психопатологии. М., 1996.
Руднев В.П. Механизмы жизни. Ч. I. Тождество и превращение. [Электронный ресурс] // Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2010. N 2. URL: http:// ppip.idnk.ru (дата обращения: чч.мм.гггг).
Все элементы описания необходимы и соответствуют ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка" (введен в действие 01.01.2009). Дата обращения [в формате число-месяц-год = чч.мм.гггг] – дата, когда вы обращались к документу и он был доступty.